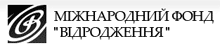Почему российские зэки боятся свободы?
Ольга Боброва |
Однажды мне довелось побывать в исправительной колонии для молодежи — и это был уникальный опыт, учитывая, что колония находилась в курортном местечке Уитикон в швейцарском кантоне Цюрих, в старом поместье, и с виду тоже была как курорт.
Директор колонии «Уитикон» Михаэль Рубертус рассказывал нам, что в Швейцарии в отношении несовершеннолетних и молодежи действует особая ювенальная юстиция; что человек подпадает под действие «детского» закона вплоть до 22 лет, а в исключительных случаях — так и до 25 (пока личность не устоится). Что швейцарская судебная процедура ориентирована прежде всего на воспитание и социальную реабилитацию, а не на наказание. И так в отношении любого преступника, а уж что касается детей, то тут вся система юстиции будет сопротивляться тому, чтобы подростка посадили. А чтобы дать максимальный срок — 4 года заключения — должно случиться что-то уж совсем из ряда вон.
«И все же несколько человек у нас сидят за убийство, — добавил директор в заключение. — Быть может, вы их увидите, хотя мы не можем раскрывать их приговор».
Тому парню, в комнате которого я побывала (не знаю, был ли он убийцей), сидеть осталось два года. А два он уже отсидел — в «строгом» блоке.
Накануне руководство колонии спросило у него, не имеет ли он возражений, если его комнату покажут журналистам. Он возражений не имел и даже, я думаю, прибрался перед нашим визитом. На стенах в его комнате развешаны плакаты и мягкие игрушки. На подоконнике стоит мещанский фикус и еще два каких-то цветка. А промеж горшков открыто и даже с вызовом лежат заготовленные «патроны» — сигареты, из которых выбит табак, с тем чтобы потом туда была забита анаша. И это не только исчерпывающий информационный посыл для русских журналистов — это еще и дерзкий выпад в сторону руководства колонии. Которое в лице директора Рубертуса нерешительно топчется на пороге и объясняет, что наркотики в колонии, дескать, категорически запрещены, но пустые сигареты запретить нельзя.
Скоро этого парня из «строгого» блока переведут в общий — поведение у него нормальное, и срок уже подходит. Там совсем другие возможности. Там он, наверное, станет ходить на курсы садовников — вперемешку с вольными из окрестных сел, для которых эти курсы тоже открыты. Там он будет обедать в одной столовой с работниками колонии. По выходным его будут отпускать в город.
И вряд ли парень вернется в колонию. Рецидивность в Швейцарии — ничтожна. Наверное, гуманность пенитенциарной системы делает здесь свое дело.
Конечно, и швейцарская юстиция со всем своим гуманизмом иной раз дает маху. Но вот что показательно: каждую ошибку юстиция воспринимает как собственный системный дефект. А не как вину конкретного человека.
Вот был у них такой случай. В кантоне Цюрих в 1988 году поймали маньяка Эриха Хаурте. 10 изнасилований, 2 убийства, 16 грабежей. С такими достижениями он, конечно, получил пожизненное. Но уже в тюрьме начал проходить добровольную терапию. И результат терапии был настолько блестящим, что в 1992-м ему дали отпуск без сопровождения.
И тут же Хаурте убил человека. И закопал.
Так выяснилось, что многочисленные тюремные спецы дали маньяку плохой, неправильный «легальный прогноз». Поднялся, конечно, вой. Эту тему дискутировали и дебатировали. Сама по себе чудовищная невероятность произошедшего потрясла швейцарское общество не меньше, чем нас потряс Евсюков. Но Евсюков-то для России был событием если не ожидаемым, то закономерным. А вот Хаурте для Швейцарии стал непрогнозируемым сбоем матрицы.
В итоге разогнали к чертям собачьим всю систему исполнения наказаний кантона Цюрих и собрали ее по-новому. С тех пор сбоев не было.
В голову приходит чудовищная в отечественных реалиях мысль: именно в том, что даже кровавым маньякам система (пусть и не без ошибок) дает возможность вернуться в общество, и кроется причина едва ли не самой низкой рецидивности в Европе. Швейцария рассматривает преступление не как следствие порочности человека, а как психологическую проблему. Как диагноз, если хотите. И всякие общественные институты бьются над загадкой: что же сломалось у человека в голове, если он вдруг взял и попер против нормы? И вся их пенитенциарная система ориентирована не на то, чтобы покарать, а на то, чтобы восстановить сбившиеся настройки и предотвратить дальнейшие злодеяния.
А в России тюрьма — в рамках нормы. Общество в большинстве своем не воспринимает заключение как тотальное деструктивное обстоятельство в жизни человека. По умолчанию предполагается, что всяк попавший на зону выходит оттуда исправленным, улучшенным и дополненным. И сразу готов вступить в вольную жизнь полноценным членом общества.
Но на деле наша, российская, зона вырывает человека из общества не только на время отсидки, а вообще.
— Когда я сел, мобильные телефоны у некоторых были, но я его тогда даже в руках еще не держал, — рассказывает мне Валера, освободившийся весной. — А теперь, оказывается, без мобильного никто уже не живет. Или Интернет: без этого вообще на работу не устроишься, половина жизни у людей протекает в Сети. Всему приходится учиться.
Это прикладные моменты, а есть и более общие, системные.
— Исторический темп в России очень динамичен, — говорит Сергей Ениколопов, завкафедрой криминальной психологии МГППУ. — И заключенных, особенно тех, кто сидел долго, встречает совершенно другая страна. Эта реальность кажется чуждой, враждебной. Никто не помогает в ней разобраться. Если в советское время освободившихся хотя бы трудоустраивали, пусть и по-рабски, то теперь государство в эти вопросы не вмешивается. Часто за годы в колонии дружеские, семейные связи рушатся. А те, что образовались в колонии, кажутся вечными.
С реабилитацией бывших зэков у нас законодательный пробел. Есть те, кто людей сажает, есть те, кто перевоспитывает их, пока сидят. А тех, кто помогает им вернуться к жизни — восстановить документы, найти жилье, работу, — таких нет. Закон о социальной реабилитации заключенных уже который год обсуждается. Реальных подвижек пока не видно. Непонятно, то ли экономия бюджета тому причиной, то ли бессилие лоббистов этого закона, бесконечно сталкивающих дискуссию в не самую конструктивную, как мне кажется, сторону разговоров о гуманизме. Меж тем основной мотив принятия подобных документов в европейских странах — это стремление общества к самосохранению. Рецидивность у нас — за 30%. Порядка 900 тысяч человек единовременно — это «контингент». И многим из них жизнь на воле кажется намного бесчестнее и страшнее, чем та, что за решеткой. Поэтому многие, освободившись, не прочь и вернуться.
ФСИН проблему тоже осознает, и при некоторых колониях сегодня созданы так называемые реабилитационные центры. Но в этом-то и есть главный их недостаток: они в системе ФСИН. Само пребывание там — это наказание.
Так что пока основная реабилитационная сила в России — это общественная инициатива, как правило, с религиозным уклоном. На запрос «реабилитация заключенных» поисковик в трех верхних строках выдает ссылки на православную, иудаистскую и буддистскую организации. Опыт, который накапливают эти организации, честное слово, стоит того, чтобы государство обратило на него внимание. Но государство привыкло смотреть на зэков совсем под другим углом.
Вот, к примеру, Аркадий Барановский придумал и запустил несколько лет назад проект «Возращение», который действует сейчас под крышей Фонда «Еврейский благотворительный Комитет». Проект получился совершенно некондовый, глубокий, с философским даже наполнением. Евреи своих заключенных не только лечат-учат-трудоустраивают. Они вообще пытаются повернуть к ним жизнь каким-то другим боком, чтобы те увидели, что все может быть иначе. Что и они, вернувшиеся, — люди из этого мира. Не из другого.
Придумали такую штуку: театр бывших заключенных*. Изыскали где-то деньги, наняли настоящего крутого театрального постановщика и запустили репетиции. Подобного в России прежде не было, но опыт других стран показывает — такой способ реабилитации очень эффективен.
Я наблюдала репетиции театра со стороны, и это меня впечатлило. Актеры — взрослые, созревшие уже люди с остросюжетными биографиями. Без иллюзий относительно жизни. Прошедшие сквозь тяжелые испытания, как внешние, физические, так и внутренние. И вот они, эти люди, через день на репетициях поют песни из мультиков и ставят маленькие сценки, полные абсурдных театральных условностей. Происходящее выводит сознание из состояния равновесия. Я не могу осознать: как эта абстрактная штука, театр, может жить внутри таких конкретных людей.
И вот перед очередной репетицией я встречаюсь поболтать с Димой. Он один из самых ярких актеров этого театра, совершенно раскрепощенный. В кафе я себе заказываю кофе, а он с ходу просит угостить его водкой.
Чтобы представить Диму лучше, скажу: у него две судимости. Первая — по юности, ограбил кого-то на полтора года колонии. Вторая — уже по-серьезному. Мимолетная подруга собралась от него уходить, а он не вынес ее решения и взялся за нож. Подругу спасли, а Диме дали четыре года строгача. Дима потом каялся, конечно, просил у подруги прощения, и она его даже ждала немножко, пока с другим не сошлась.
И вот теперь он на свободе. И все его жизненное устройство — хрупкое, неуверенное и прозрачное, как бутылка из дешевого белого стекла. Никогда в жизни у него не было работы, на которой он продержался бы дольше двух месяцев. («А если будет так, что деньги нужны, а родители не дадут?» — «Всякое бывает. Тогда придется, наверное, у кого-то что-то отнять».) Никогда не было отношений с женщинами дольше двух недель. А Диме уж под тридцать. И единственный человек, о котором он говорит с нескрываемой теплотой, — это его четырехлетний племянник. «Он мой конкретный кореш, конечно».
И все, что у Димы в жизни есть, его устраивает. Он виноват, виноват, несомненно, во всех преступлениях, за которые получил свои сроки. И сроки, надо думать, вполне отвечают букве российского закона. Но вот как-то так получилось, что пока судьи и прокуроры вертели в руках Димину судьбу с малолетства, от нее остался один обмылок.
Можно только гадать, что было бы, если бы давно, во время первой еще посадки, Диминым делом занимался бы отдельный прокурор по ювенальной юстиции. Который разобрался бы, как в жизни подростка случилась такая беда, как это преступление. Но у нас такая возможность не предусмотрена, так что и гадать бессмысленно.
Дима рассуждает про свое будущее, и в этом будущем есть даже театр.
— Теперь это дело. Целый театр! Такая ответственность, большое доверие… Как знать, может, и правда, что-то из этого получится. Мне дали шанс — вдруг выгорит!
Закончив разговор на этой наивно-восторженной ноте, мы с ним идем на репетицию. Репетиции до сих пор проходили в центре социального обслуживания «Хорошевский» — тамошнее замечательное, все понимающее и терпимое руководство просто так пускало ребят в свой актовый зал. А теперь выясняется, что центр себе этого больше позволить не может.
Заместитель директора Анна Сажина, за годы чиновничьей работы не утратившая таланта мыслить свободно, вне рамок, призывает к пониманию:
— Основной наш контингент — это пенсионеры. А ведь пенсионеры, знаете как… Пожилые — настолько сложная, капризная и мнительная категория. И не всем нравится соседство с таким театром. Да и от некоторых наших работников тоже недовольство идет. Нет толерантности, нет культуры понимания… Начнут писать, жаловаться, пойдут проверки. Мы ведь бумажная страна! Мне жаль, что так получилось.
Да и всем жаль.
После репетиции Дима с другими актерами купили в складчину бутылку водки и выпили ее прямо под стенами центра соцобслуживания. Чтобы излишне не драматизировать ситуацию, скажу, что они и прежде так делали.
Директор колонии «Уитикон» Михаэль Рубертус рассказывал нам, что в Швейцарии в отношении несовершеннолетних и молодежи действует особая ювенальная юстиция; что человек подпадает под действие «детского» закона вплоть до 22 лет, а в исключительных случаях — так и до 25 (пока личность не устоится). Что швейцарская судебная процедура ориентирована прежде всего на воспитание и социальную реабилитацию, а не на наказание. И так в отношении любого преступника, а уж что касается детей, то тут вся система юстиции будет сопротивляться тому, чтобы подростка посадили. А чтобы дать максимальный срок — 4 года заключения — должно случиться что-то уж совсем из ряда вон.
«И все же несколько человек у нас сидят за убийство, — добавил директор в заключение. — Быть может, вы их увидите, хотя мы не можем раскрывать их приговор».
Тому парню, в комнате которого я побывала (не знаю, был ли он убийцей), сидеть осталось два года. А два он уже отсидел — в «строгом» блоке.
Накануне руководство колонии спросило у него, не имеет ли он возражений, если его комнату покажут журналистам. Он возражений не имел и даже, я думаю, прибрался перед нашим визитом. На стенах в его комнате развешаны плакаты и мягкие игрушки. На подоконнике стоит мещанский фикус и еще два каких-то цветка. А промеж горшков открыто и даже с вызовом лежат заготовленные «патроны» — сигареты, из которых выбит табак, с тем чтобы потом туда была забита анаша. И это не только исчерпывающий информационный посыл для русских журналистов — это еще и дерзкий выпад в сторону руководства колонии. Которое в лице директора Рубертуса нерешительно топчется на пороге и объясняет, что наркотики в колонии, дескать, категорически запрещены, но пустые сигареты запретить нельзя.
Скоро этого парня из «строгого» блока переведут в общий — поведение у него нормальное, и срок уже подходит. Там совсем другие возможности. Там он, наверное, станет ходить на курсы садовников — вперемешку с вольными из окрестных сел, для которых эти курсы тоже открыты. Там он будет обедать в одной столовой с работниками колонии. По выходным его будут отпускать в город.
И вряд ли парень вернется в колонию. Рецидивность в Швейцарии — ничтожна. Наверное, гуманность пенитенциарной системы делает здесь свое дело.
Конечно, и швейцарская юстиция со всем своим гуманизмом иной раз дает маху. Но вот что показательно: каждую ошибку юстиция воспринимает как собственный системный дефект. А не как вину конкретного человека.
Вот был у них такой случай. В кантоне Цюрих в 1988 году поймали маньяка Эриха Хаурте. 10 изнасилований, 2 убийства, 16 грабежей. С такими достижениями он, конечно, получил пожизненное. Но уже в тюрьме начал проходить добровольную терапию. И результат терапии был настолько блестящим, что в 1992-м ему дали отпуск без сопровождения.
И тут же Хаурте убил человека. И закопал.
Так выяснилось, что многочисленные тюремные спецы дали маньяку плохой, неправильный «легальный прогноз». Поднялся, конечно, вой. Эту тему дискутировали и дебатировали. Сама по себе чудовищная невероятность произошедшего потрясла швейцарское общество не меньше, чем нас потряс Евсюков. Но Евсюков-то для России был событием если не ожидаемым, то закономерным. А вот Хаурте для Швейцарии стал непрогнозируемым сбоем матрицы.
В итоге разогнали к чертям собачьим всю систему исполнения наказаний кантона Цюрих и собрали ее по-новому. С тех пор сбоев не было.
В голову приходит чудовищная в отечественных реалиях мысль: именно в том, что даже кровавым маньякам система (пусть и не без ошибок) дает возможность вернуться в общество, и кроется причина едва ли не самой низкой рецидивности в Европе. Швейцария рассматривает преступление не как следствие порочности человека, а как психологическую проблему. Как диагноз, если хотите. И всякие общественные институты бьются над загадкой: что же сломалось у человека в голове, если он вдруг взял и попер против нормы? И вся их пенитенциарная система ориентирована не на то, чтобы покарать, а на то, чтобы восстановить сбившиеся настройки и предотвратить дальнейшие злодеяния.
А в России тюрьма — в рамках нормы. Общество в большинстве своем не воспринимает заключение как тотальное деструктивное обстоятельство в жизни человека. По умолчанию предполагается, что всяк попавший на зону выходит оттуда исправленным, улучшенным и дополненным. И сразу готов вступить в вольную жизнь полноценным членом общества.
Но на деле наша, российская, зона вырывает человека из общества не только на время отсидки, а вообще.
— Когда я сел, мобильные телефоны у некоторых были, но я его тогда даже в руках еще не держал, — рассказывает мне Валера, освободившийся весной. — А теперь, оказывается, без мобильного никто уже не живет. Или Интернет: без этого вообще на работу не устроишься, половина жизни у людей протекает в Сети. Всему приходится учиться.
Это прикладные моменты, а есть и более общие, системные.
— Исторический темп в России очень динамичен, — говорит Сергей Ениколопов, завкафедрой криминальной психологии МГППУ. — И заключенных, особенно тех, кто сидел долго, встречает совершенно другая страна. Эта реальность кажется чуждой, враждебной. Никто не помогает в ней разобраться. Если в советское время освободившихся хотя бы трудоустраивали, пусть и по-рабски, то теперь государство в эти вопросы не вмешивается. Часто за годы в колонии дружеские, семейные связи рушатся. А те, что образовались в колонии, кажутся вечными.
С реабилитацией бывших зэков у нас законодательный пробел. Есть те, кто людей сажает, есть те, кто перевоспитывает их, пока сидят. А тех, кто помогает им вернуться к жизни — восстановить документы, найти жилье, работу, — таких нет. Закон о социальной реабилитации заключенных уже который год обсуждается. Реальных подвижек пока не видно. Непонятно, то ли экономия бюджета тому причиной, то ли бессилие лоббистов этого закона, бесконечно сталкивающих дискуссию в не самую конструктивную, как мне кажется, сторону разговоров о гуманизме. Меж тем основной мотив принятия подобных документов в европейских странах — это стремление общества к самосохранению. Рецидивность у нас — за 30%. Порядка 900 тысяч человек единовременно — это «контингент». И многим из них жизнь на воле кажется намного бесчестнее и страшнее, чем та, что за решеткой. Поэтому многие, освободившись, не прочь и вернуться.
ФСИН проблему тоже осознает, и при некоторых колониях сегодня созданы так называемые реабилитационные центры. Но в этом-то и есть главный их недостаток: они в системе ФСИН. Само пребывание там — это наказание.
Так что пока основная реабилитационная сила в России — это общественная инициатива, как правило, с религиозным уклоном. На запрос «реабилитация заключенных» поисковик в трех верхних строках выдает ссылки на православную, иудаистскую и буддистскую организации. Опыт, который накапливают эти организации, честное слово, стоит того, чтобы государство обратило на него внимание. Но государство привыкло смотреть на зэков совсем под другим углом.
Вот, к примеру, Аркадий Барановский придумал и запустил несколько лет назад проект «Возращение», который действует сейчас под крышей Фонда «Еврейский благотворительный Комитет». Проект получился совершенно некондовый, глубокий, с философским даже наполнением. Евреи своих заключенных не только лечат-учат-трудоустраивают. Они вообще пытаются повернуть к ним жизнь каким-то другим боком, чтобы те увидели, что все может быть иначе. Что и они, вернувшиеся, — люди из этого мира. Не из другого.
Придумали такую штуку: театр бывших заключенных*. Изыскали где-то деньги, наняли настоящего крутого театрального постановщика и запустили репетиции. Подобного в России прежде не было, но опыт других стран показывает — такой способ реабилитации очень эффективен.
Я наблюдала репетиции театра со стороны, и это меня впечатлило. Актеры — взрослые, созревшие уже люди с остросюжетными биографиями. Без иллюзий относительно жизни. Прошедшие сквозь тяжелые испытания, как внешние, физические, так и внутренние. И вот они, эти люди, через день на репетициях поют песни из мультиков и ставят маленькие сценки, полные абсурдных театральных условностей. Происходящее выводит сознание из состояния равновесия. Я не могу осознать: как эта абстрактная штука, театр, может жить внутри таких конкретных людей.
И вот перед очередной репетицией я встречаюсь поболтать с Димой. Он один из самых ярких актеров этого театра, совершенно раскрепощенный. В кафе я себе заказываю кофе, а он с ходу просит угостить его водкой.
Чтобы представить Диму лучше, скажу: у него две судимости. Первая — по юности, ограбил кого-то на полтора года колонии. Вторая — уже по-серьезному. Мимолетная подруга собралась от него уходить, а он не вынес ее решения и взялся за нож. Подругу спасли, а Диме дали четыре года строгача. Дима потом каялся, конечно, просил у подруги прощения, и она его даже ждала немножко, пока с другим не сошлась.
И вот теперь он на свободе. И все его жизненное устройство — хрупкое, неуверенное и прозрачное, как бутылка из дешевого белого стекла. Никогда в жизни у него не было работы, на которой он продержался бы дольше двух месяцев. («А если будет так, что деньги нужны, а родители не дадут?» — «Всякое бывает. Тогда придется, наверное, у кого-то что-то отнять».) Никогда не было отношений с женщинами дольше двух недель. А Диме уж под тридцать. И единственный человек, о котором он говорит с нескрываемой теплотой, — это его четырехлетний племянник. «Он мой конкретный кореш, конечно».
И все, что у Димы в жизни есть, его устраивает. Он виноват, виноват, несомненно, во всех преступлениях, за которые получил свои сроки. И сроки, надо думать, вполне отвечают букве российского закона. Но вот как-то так получилось, что пока судьи и прокуроры вертели в руках Димину судьбу с малолетства, от нее остался один обмылок.
Можно только гадать, что было бы, если бы давно, во время первой еще посадки, Диминым делом занимался бы отдельный прокурор по ювенальной юстиции. Который разобрался бы, как в жизни подростка случилась такая беда, как это преступление. Но у нас такая возможность не предусмотрена, так что и гадать бессмысленно.
Дима рассуждает про свое будущее, и в этом будущем есть даже театр.
— Теперь это дело. Целый театр! Такая ответственность, большое доверие… Как знать, может, и правда, что-то из этого получится. Мне дали шанс — вдруг выгорит!
Закончив разговор на этой наивно-восторженной ноте, мы с ним идем на репетицию. Репетиции до сих пор проходили в центре социального обслуживания «Хорошевский» — тамошнее замечательное, все понимающее и терпимое руководство просто так пускало ребят в свой актовый зал. А теперь выясняется, что центр себе этого больше позволить не может.
Заместитель директора Анна Сажина, за годы чиновничьей работы не утратившая таланта мыслить свободно, вне рамок, призывает к пониманию:
— Основной наш контингент — это пенсионеры. А ведь пенсионеры, знаете как… Пожилые — настолько сложная, капризная и мнительная категория. И не всем нравится соседство с таким театром. Да и от некоторых наших работников тоже недовольство идет. Нет толерантности, нет культуры понимания… Начнут писать, жаловаться, пойдут проверки. Мы ведь бумажная страна! Мне жаль, что так получилось.
Да и всем жаль.
После репетиции Дима с другими актерами купили в складчину бутылку водки и выпили ее прямо под стенами центра соцобслуживания. Чтобы излишне не драматизировать ситуацию, скажу, что они и прежде так делали.
щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном